filmov
tv
Почему российские суды так зависимы от президента? Справедливый суд. Лекция 3

Показать описание
Пётр Сергеевич Филиппов — российский политик и государственный деятель, народный депутат России, депутат Ленинградского городского совета народных депутатов.
После краха СССР российское законодательство о суде и судебном процессе приблизилось к европейскому. Однако вроде бы правильные решения не изменили природу нашего суда, он по-прежнему похож на советский, да еще и поражен коррупцией. Почему?
Мало принять законы, пусть даже хорошие – главное, чтобы они исполнялись. Поэтому надо менять привычки, обычаи, устоявшиеся практики, представление граждан о своих правах и обязанностях, о полномочиях органов власти. Прежде всего такие изменения должны касаться сознания чиновников, судей, прокуроров и следователей. Но без политической воли, использования мощных кнутов и стимулов вряд ли это возможно. Именно этого России катастрофически не хватает.
Становление независимого суда, как и любого другого общественного института, уместно рассматривать в качестве эволюционного процесса в ходе естественного отбора среди судебных систем. Из различных судебных систем, которые складывались в мире, народы перенимали наиболее эффективные. Страна, в которой отношения между людьми и властью не соответствовали уровню развития цивилизации, а заимствования прогрессивной судебной системы не происходило, оттеснялась на обочину мировой истории.
Это хорошо видно на примере независимости суда. В средневековой Англии судьи назначались королями и полностью от них зависели. Вынести решение, не устраивавшее короля, означало для судьи попасть в опалу. Но крестьяне-йомены и землевладельцы-джентри хотели иметь судебную защиту от произвола королевской власти. Избранный ими парламент, воспользовавшись тем, что королю остро не хватало средств на ведение войн, вынудил его изменить статус судей, сделать их независимыми. Граждане США пошли еще дальше, учредив суд присяжных, в котором судья руководит процессом, но решение о виновности или невиновности подсудимого принимают присяжные.
В России в XIII–XIX веках царь, подобно ханам Золотой Орды, был одновременно и владыкой, и судьей, а его подданные оставались бесправными рабами. Лишь в 1864 году был введен суд присяжных. Он с трудом, но укоренялся на отечественной почве. Однако большевики восстановили архаичные порядки, суд вновь оказался в подчинении у власти, стал ее карательным органом. В течение 70 лет коммунистической диктатуры в СССР господствовало «телефонное право», судебный процесс имел черты суда инквизиции, где судья одновременно выступал и в роли обвинителя.
В начале 1990-х годов была сделана попытка привести российскую судебную систему в соответствие с нормами развитых стран. Был учрежден Конституционный суд, введен пожизненный срок полномочий судей. Однако эти нововведения вступили в противоречие с интересами политической элиты. Президент нуждался в управляемом суде, который послушно выносил бы политическим оппонентам заказанные властью приговоры. «Карманного» суда жаждали и губернаторы. Да и крупному бизнесу проще, сподручнее было иметь «крышу» в лице министров или губернаторов и решать дела «по понятиям», чем по закону.
В начале 2000-х годов по инициативе В. Путина и с одобрения политической элиты были пробиты новые бреши в независимом статусе судей: введены возраст отставки судей и повторное назначение на должность, резко расширены основания для их дисциплинарной ответственности. Чтобы удалить неугодного судью с должности, достаточно привлечь его к дисциплинарной ответственности, скажем, за критику верховной судебной власти или воспользоваться неопределенностью норм Кодекса судейской этики. Каждый в судейском сообществе, принимающем решение о дисциплинарной ответственности судьи, прекрасно понимает, что, отказывая председателю суда в его требовании «наказать строптивца», сам может попасть под «дисциплинарку».
В результате сегодня практически весь крупный российский бизнес стремится перевести свои фирмы под юрисдикцию Швейцарии или Великобритании, потому что хочет быть под защитой независимого и справедливого суда. В этом и проявляется естественный отбор институтов.
Как россияне относятся к суду, видя его зависимость от исполнительной власти?
Советскому суду люди не доверяли, но у многих была надежда, что в новой России он станет другим. В 2000-х годах граждане поняли, что в делах, затрагивающих интересы власти, ждать справедливых решений от суда не приходится. Как показывают опросы, россияне относятся к нашему суду в целом негативно, три четверти считают, что справедливости в нем не найти. С советских времен продолжает действовать «телефонное право», когда влиятельный чиновник диктует судье, какое решение он должен вынести. Не выполняет свою роль суд и в хозяйственной жизни, зачастую он оказывается сообщником в преступных махинациях, рейдерских захватах и уничтожении конкурентов.
После краха СССР российское законодательство о суде и судебном процессе приблизилось к европейскому. Однако вроде бы правильные решения не изменили природу нашего суда, он по-прежнему похож на советский, да еще и поражен коррупцией. Почему?
Мало принять законы, пусть даже хорошие – главное, чтобы они исполнялись. Поэтому надо менять привычки, обычаи, устоявшиеся практики, представление граждан о своих правах и обязанностях, о полномочиях органов власти. Прежде всего такие изменения должны касаться сознания чиновников, судей, прокуроров и следователей. Но без политической воли, использования мощных кнутов и стимулов вряд ли это возможно. Именно этого России катастрофически не хватает.
Становление независимого суда, как и любого другого общественного института, уместно рассматривать в качестве эволюционного процесса в ходе естественного отбора среди судебных систем. Из различных судебных систем, которые складывались в мире, народы перенимали наиболее эффективные. Страна, в которой отношения между людьми и властью не соответствовали уровню развития цивилизации, а заимствования прогрессивной судебной системы не происходило, оттеснялась на обочину мировой истории.
Это хорошо видно на примере независимости суда. В средневековой Англии судьи назначались королями и полностью от них зависели. Вынести решение, не устраивавшее короля, означало для судьи попасть в опалу. Но крестьяне-йомены и землевладельцы-джентри хотели иметь судебную защиту от произвола королевской власти. Избранный ими парламент, воспользовавшись тем, что королю остро не хватало средств на ведение войн, вынудил его изменить статус судей, сделать их независимыми. Граждане США пошли еще дальше, учредив суд присяжных, в котором судья руководит процессом, но решение о виновности или невиновности подсудимого принимают присяжные.
В России в XIII–XIX веках царь, подобно ханам Золотой Орды, был одновременно и владыкой, и судьей, а его подданные оставались бесправными рабами. Лишь в 1864 году был введен суд присяжных. Он с трудом, но укоренялся на отечественной почве. Однако большевики восстановили архаичные порядки, суд вновь оказался в подчинении у власти, стал ее карательным органом. В течение 70 лет коммунистической диктатуры в СССР господствовало «телефонное право», судебный процесс имел черты суда инквизиции, где судья одновременно выступал и в роли обвинителя.
В начале 1990-х годов была сделана попытка привести российскую судебную систему в соответствие с нормами развитых стран. Был учрежден Конституционный суд, введен пожизненный срок полномочий судей. Однако эти нововведения вступили в противоречие с интересами политической элиты. Президент нуждался в управляемом суде, который послушно выносил бы политическим оппонентам заказанные властью приговоры. «Карманного» суда жаждали и губернаторы. Да и крупному бизнесу проще, сподручнее было иметь «крышу» в лице министров или губернаторов и решать дела «по понятиям», чем по закону.
В начале 2000-х годов по инициативе В. Путина и с одобрения политической элиты были пробиты новые бреши в независимом статусе судей: введены возраст отставки судей и повторное назначение на должность, резко расширены основания для их дисциплинарной ответственности. Чтобы удалить неугодного судью с должности, достаточно привлечь его к дисциплинарной ответственности, скажем, за критику верховной судебной власти или воспользоваться неопределенностью норм Кодекса судейской этики. Каждый в судейском сообществе, принимающем решение о дисциплинарной ответственности судьи, прекрасно понимает, что, отказывая председателю суда в его требовании «наказать строптивца», сам может попасть под «дисциплинарку».
В результате сегодня практически весь крупный российский бизнес стремится перевести свои фирмы под юрисдикцию Швейцарии или Великобритании, потому что хочет быть под защитой независимого и справедливого суда. В этом и проявляется естественный отбор институтов.
Как россияне относятся к суду, видя его зависимость от исполнительной власти?
Советскому суду люди не доверяли, но у многих была надежда, что в новой России он станет другим. В 2000-х годах граждане поняли, что в делах, затрагивающих интересы власти, ждать справедливых решений от суда не приходится. Как показывают опросы, россияне относятся к нашему суду в целом негативно, три четверти считают, что справедливости в нем не найти. С советских времен продолжает действовать «телефонное право», когда влиятельный чиновник диктует судье, какое решение он должен вынести. Не выполняет свою роль суд и в хозяйственной жизни, зачастую он оказывается сообщником в преступных махинациях, рейдерских захватах и уничтожении конкурентов.
Комментарии
 0:28:44
0:28:44
 0:02:55
0:02:55
 0:00:27
0:00:27
 0:19:52
0:19:52
 0:11:59
0:11:59
 0:14:46
0:14:46
 0:11:52
0:11:52
 0:07:31
0:07:31
 0:00:40
0:00:40
 0:19:20
0:19:20
 0:07:46
0:07:46
 0:06:49
0:06:49
 0:04:39
0:04:39
 0:06:34
0:06:34
 0:46:45
0:46:45
 0:08:56
0:08:56
 0:13:29
0:13:29
 0:40:32
0:40:32
 0:01:00
0:01:00
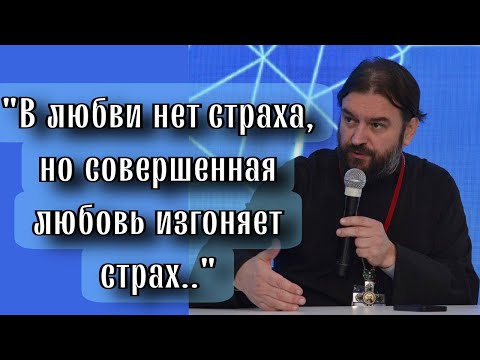 1:17:14
1:17:14
 0:10:00
0:10:00
 0:11:52
0:11:52
 0:13:57
0:13:57
 0:36:20
0:36:20